Индустриализация в Каталонии носила менее радикальный характер, чем в Северной Европе. Каталонцы получили промышленность, но без индустриальной революции. Деревенская и феодальная старая Каталония отошла в область мифов. Но в этом мифе — в собственной готике, в прошлом, в кельтских сумерках — каталонцы, представители среднего класса находили утешение, спасаясь таким образом от волнений своего времени. Тоска по консервативному убежищу лежит в основе каталонского «Возрождения».
К середине 1850-х годов во всей Каталонии насчитывалось 1,67 миллиона человек, из которых 189 000 человек жили в Барселоне. С 1834 года население города возросло до 56 ООО человек — на 40 процентов за двадцать лет. Деревни и провинциальные городки развивались медленно, но Барселона, стиснутая стенами ФилиппаУ, вступила в период бурного роста.
К середине 1850-х годов более четверти национального продукта Испании поступало из Каталонии. Принципат зарабатывал вдвое больше на производстве и в полтора раза больше на сельском хозяйстве, чем вся остальная страна. Если не считать баскских территорий, Каталония являлась единственной индустриальной областью Испании.
Она была очень неоднородна по своему промышленному развитию. Тяжелая промышленность в XIX веке держалась на угле и железе: запасы каталонского угля были незначительны, железо и вовсе отсутствовало. И то и другое приходилось ввозить. Дело осложнялось плачевным состоянием дорог. В 1848 году Барселона учредила специальный комитет, который должен был заниматься строительством магистралей — под «магистралью» в данном случае имеется в виду любая мощеная дорога, достаточно широкая для того, чтобы на ней могли разъехаться две фуры. Фонды выделял не Мадрид, средства поступали из местных налогов. Результат был столь ничтожным, что к концу XIX века каталонские дороги выдерживали движение в пять раз большее, чем кастильские, хотя в то время общая их длина была на треть меньше. Каталонские промышленники хотели сохранить свои деньги, не растрачивать их на общественные предприятия, и этот примитивный инстинкт дорого им обошелся. Так же обстояло дело и с железными дорогами. Первая пассажирская линия во Франции вступила в строй в 1828 году, а первую каталонскую (и испанскую, кстати), длиной в восемнадцать миль, от Барселоны до Матаро, пришлось ждать до 1848 года. К тому времени во Франции было уже 1140 миль путей. Железную дорогу из Барселоны в Сарагосу провели в 1861 году, в Жерону — в 1862-м, в Таррагону — в 1865-м, в Валенсию — в 1867 году, но ни одна из них не доходила до французской границы (менее чем в ста милях) вплоть до 1878 года. К тому времени железная дорога уже десять лет как связывала Тихоокеанское и Атлантическое побережья Америки.
Тем не менее после 1850 года каталонская промышленность стала развиваться очень бурно. Явными признаками роста были распространение долгосрочного кредита через новые банки и растущие как грибы акционерные общества. Первые из них образовались в Барселоне в 1840 году. К 1849 году было зарегистрировано еще восемь, к 1852 году — еще шесть. Для экономики, сосредоточенной на мелком семейном бизнесе, их абстрактность и анонимность были внушающими опасение новшествами. Потом случился взрыв: между 1853 и 1857 годами возникли тридцать две новые компании. Появились банки, которые специализировались на долгосрочном кредите промышленным предприятиям. Первый из них, Барселонский банк, основанный Мануэлем Жирона-и-Аграфелем, возник в 1844 году. Каталонцы не любили слияний и поглощений. Идеалом считался крупный семейный бизнес все по тому же образцу
Этот промышленный рост иногда кажется более значительным, чем было на самом деле. Ни одна каталонская фабрика не могла произвести ткацкий или прядильный станок или локомотив, способный соперничать с английским привозным. Бум с акциями железнодорожных компаний, сотрясавший биржу в 1860-е годы (более половины общей суммы вложений, 416 миллионов песет, в 1866 году пошло на биржевые спекуляции с железнодорожными акциями), быстро сошел на нет. В 1856 году треть всего «тяжелого металла» Испании выплавлялась в Каталонии, но выход составлял всего-навсего 3 процента от общекаталонского промышленного продукта. В конце XIX столетия каталонские металлургические заводы давали четверть всего испанского продукта, но это была капля в море по сравнению с продукцией таких гигантов, как Рур или Мидленд. Более того, это было очень немного по сравнению с количеством остальной продукции, производимой в Каталонии.
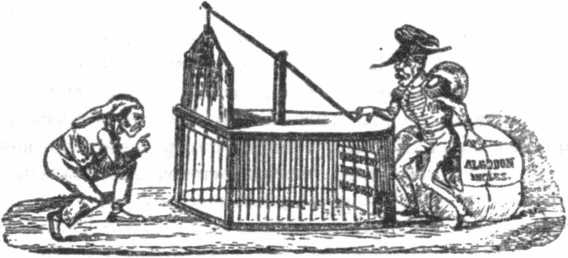
Ведущей отраслью считалась текстильная промышленность. Каталония к середине столетия была четвертым в мире производителем товаров из хлопка после Англии, Франции и Соединенных Штатов. Производство тканей — прядение, ткачество, окраска — было в значительной степени механизировано, и выход составлял 61 процент от общего промышленного продукта Каталонии. Подобно новым идеям, новые технологии тоже доходили за Пиренеи с некоторым опозданием, но нехватка рабочей силы, вызванная наполеоновскими воинами, поставила текстильную промышленность перед выбором: механизироваться или погибнуть. Каталонские промышленные агенты добрались до севера Англии, чтобы подсмотреть, что можно позаимствовать на заводах Мидленда. Некоторые фирмы закупали оборудование в Англии ввиду отсутствия такового в Испании. К 1831 году в Барселоне уже было пятьсот прядильных станков кромптоновского образца с шестьюдесятью тысячами шпинделей. Первая
На 1860-1870-е годы пришлась не только консолидация каталонского среднего класса, но и формирование каталонского пролетариата. И какие бы трудности ни испытывал средний класс, жизнь рабочего была несравненно труднее.
У барселонских рабочих не было своего хрониста, который бы описал их жизнь, как описал Энгельс жизнь рабочих Манчестера. Но некоторые свидетельства оставили три человека: Жауме Саларич, врач, который был весьма озабочен здоровьем рабочих; Рамон Симо-и-Бадиа, рабочий-самоучка из Сантс, пробившийся в политику; и Ильдефонс Серда, инженер, который проектировал Эйшампле. Ужасная картина складывается из их свидетельств. Открывается обратная сторона успехов «героического» каталонского капитализма, который, борясь с иностранными конкурентами, не позаботился о том, чтобы создать своим рабочим хотя бы подобие достойной жизни.
У барселонского рабочего на протяжении всего XIX века не было других перспектив, кроме однообразной, грубой, тяжелой жизни. Наметились демографические перемены: например, чем больше машин становили на заводах, тем чаще использовался женский и детский труд, поскольку для обслуживания станков не требовалась физическая сила, а платить женщинам и детям можно было гораздо меньше. Статистические данные менялись, но подлый расчет, нажива на нищете — это оставалось неизменным. Рабочие были в буквальном смысле «наемными рабами», получавшими скудное пропитание от системы, которая полностью разрушала их жизнь.
Они ютились на чердаках и в подвалах, без отопления, света, свежего воздуха. По сравнению с Барселоной XIX века диккенсовский Лондон выглядел почти приемлемо. Серда обнаружил, что плотность населения — 350 человек на акр, вдвое больше, чем в Париже. Жизненное пространство составляло около девяноста футов на человека. Рабочих косили эпидемии холеры, тифа, дизентерии, которые соперничали с болезнями позвоночника, вызванными условиями труда, а также систематическими отравлениями вредными красителями и химическими испарениями. У рабочих, занятых постоянно, имелся шанс дожить до пятидесяти; у jorna/ers, или «поденных рабочих», — до сорока. Они пили плохую воду, ели нездоровую пищу. Рабочая семья тратила 54 процента своего дохода на еду, питаясь при этом лишь овощами, рисом и бобами, разве что иногда позволяла себе несколько сардин и время от времени ломтик соленого сала — так называемого carn de dissabte, «субботнего мяса». Контрацепции не знали, аборт для большинства женщин был немыслим. Бесплатной системы образования не существовало, разве что простейшая грамота. Священники и монахини учили читать, чтобы бледные рахитичные дети бедняков могли одолеть катехизис и узнать, как любит их Иисус. Не существовало никаких законов относительно техники безопасности и использования детского труда. Зарплату платили маленькую, с 1849 по 1862 год она снизилась на 11 процентов, никакой гарантии занятости не было. Малейшие колебания на рынке — и фабрики увольняли рабочих, прекрасно понимая, что будет нетрудно нанять новых, как только вновь возникнет потребность. Редко кто из каталонских рабочих мог себе позволить купить то, что он производил. Нормальным рабочим днем считался двенадцатичасовой, но мужчины обычно работали по четырнадцать и даже шестнадцать часов, чтобы прокормить семью. В году было слишком много праздников, гражданских и религиозных: их насчитывалось сто двадцать, то есть в общей сложности четыре месяца вынужденного бездействия и, следовательно, безденежья. Требовалось обязательное соблюдение религиозных праздников — семьдесят пять дней в году: пятьдесят два воскресенья и двадцать три других праздника, что отнюдь не улучшало отношения рабочих к церкви. Но католическая церковь в Барселоне, как и везде в Испании, была вовсе не на стороне неимущих. А совесть заводчика находилась в компетенции епископа или исповедника.
Рамон Симо-и-Бадиа считал, что богатые просто не могут себе представить такую жизнь:
Тем, кто, проводя день в развлечениях, а вечер и ночь — в театрах и на балах, нежатся на пуховых перинах в теплых, уютных спальнях до десяти утра, просто не понять физических и моральных страданий пролетария, живущего на сыром вонючем чердаке, поднимающегося в пять утра со своего соломенного тюфяка, который он делит с женой (а часто и с детьми), надевающего пальто, служившее ему ночью одеялом… Этот человек, вернее, это человеческое существо, созданное по образу и подобию Господа, думающее и чувствующее, как все люди, покидает свой жалкий сарай, замерзнув телом и очерствев душой. Он идет на фабрику и в 6:30 утра уже берет в руки инструмент или встает у станка или садится к верстаку и до восьми вечера он прикован к ним, с пятнадцатиминутным перерывом на завтрак и часовым — на обед… Разве такие мучения не способны довести человека до звероподобного состояния?
Борьба за права живых «машин» сначала носила чисто умозрительный характер.
В первой половине XIX столетия социалистические идеи медленно проникали в Испанию. Тому было несколько причин: сильная монархическая власть, оппозиция церкви, малограмотность и, прежде всего, общее недоверие, порожденное наполеоновскими войнами, ко всему французскому. Пиренеи не были глухим барьером, отрезающим полуостров от остального мира. Тем не менее социализм для Барселоны 1850-х и 1860-х годов был не более чем мечтой, причем мечтой незначительного меньшинства энтузиастов.

Главный вдохновитель каталонского республиканского социализма никогда не бывал в Испании. Француз Этьен Кабе (1785–1856), сын рабочего из Дижона, получил юридическое образование, недолго исполнял должность генерального прокурора на Корсике, а потом стал издавать газету социалистического толка «Ле Популэр», в которой позволял себе выпады против монархии. Спасаясь от преследований, он бежал в 1834 году в Англию, где познакомился с кротким утопистом Робертом Оуэном, проповедником социалистической кооперации в промышленности. Подобно Марксу в будущем, Кабе засел в читальном зале библиотеки Британского музея. Он жадно набрасывался на любые утопические труды, от Кампанеллы и «Утопии» сэра Томаса Мора и республиканцев-социалистов предыдущего поколения (Франсуа-Эмиль Бабеф, Филиппо Буонаротти) до «Нового взгляда на общество» Оуэна. Он находился под сильным влиянием отчаянного фантазера Шарля Фурье (1772–1837). Фурье считал идеальной начальной единицей социальной организации общества фаланстер, группу примерно из 1700 человек, которые должны жить в бараках все вместе (доходы поровну, свободная любовь). Каждый такой блок самодостаточен, является мини-обществом. Фурье полагал, что при условии максимальной взаимопомощи фаланстеры распространятся по всей Земле, и наступит рай. В мире появятся тридцать семь миллионов музыкальных гениев, не уступающих Моцарту, и тридцать семь миллионов математиков, равных Ньютону. Даже море превратится в лимонад.
Кабе был не настолько безумен. Его эксцентричности хватало от силы на то, чтобы увидеть в Нагорной проповеди радикальное средство (если, конечно, правильно его применять) к смещению королей и других сильных мира сего, которые правят людьми именем Христа. «Всякий, кто внимательно прочтет евангелия, — писал он, — увидит, что Христос проповедует новый социальный порядок, основанный на братстве всех людей, доброте и милосердии… мы находим это во всех социальных системах, потрясающих ныне мир… нет разницы между социальным учением, заложенным в евангелиях, и учением социализма».
Кабе хотел написать «истинный трактат о социальной и политической морали, философии и экономике… вдохновленный чистейшей и пламенной любовью к человечеству». И написал «Путешествие в Икарию» (1839): чистой воды коммунистический опус идиосинкразического толка: практичное благодушие в сочетании с несбыточными мечтаниями и грезами.