–
Вторая из четырех. Комнаты по памяти
1
Все, чего я не знала о Джиме Калверсе до приезда в Лондон, открылось мне за первый месяц работы его помощницей. У него сложилась репутация художника, работающего в традиционном стиле: он писал простые и ясные портреты тедди-боев[25] и работниц борделей Сохо в разной степени оголенности – по словам критика из журнала “Берлингтон”, “формально впечатляющие и бесконечно невыразительные”. К 1957 году, когда я начала работать на Джима, он все чаще отказывался от традиционного подхода, пытаясь и вовсе убрать с портретов людей. Типичный для того периода Калверс – это пустая, мрачная комната (как правило, его мастерская), выполненная густыми мазками, в приглушенных тонах, с пустым креслом посередине или одиноким стаканом с отпечатком губ. Он приглашал натурщиц на долгие сессии и, пока они не уйдут, ничего не писал. Беседуя с коллекционерами, настаивал, что новые полотна раскрывают характеры портретируемых самыми лаконичными средствами, выражая очертания их отсутствия. “Любое пространство, – любил постулировать он, – меняется, когда человек его покидает, это я и пишу”. В ответ коллекционеры спрашивали, что он думает об Эдварде Хоппере[26], и это приводило его в такое бешенство, что он тут же задирал цены на свои работы.
У Джима была двухкомнатная мастерская на первом этаже переделанного из конюшни дома в Сент-Джонс-Вуд. В галерее “Эвершолт” ему выплачивали ежемесячное пособие на аренду, расходные материалы и, как они выражались, “существование” (а существовал он в основном за счет виски и собачьих бегов). Из этих денег он платил мне шесть фунтов в неделю, а от арендной платы я была освобождена. Я занимала сырую и безрадостную каморку под крышей, больше пригодную для хранения хлама, чем для жилья. Во время дождя вспучивался потолок. Летом в чердачное окно залетали голуби. Из труб соседних домов несло гарью. Но мольберт туда помещался, а если высунуться из окна и вытянуть шею, можно было увидеть Риджентс-парк. Я считала, что мне повезло: у меня было свое рабочее место, и я попала на культурную сцену Лондона, пусть и на самый ее край.
Первые несколько месяцев, что я работала на Джима, я выполняла мелкие поручения. Покупала краски в подпольной лавке в Ковент-Гардене и возила его картины в багетную мастерскую на Мэрилебон-хай-стрит, мотаясь туда-обратно на автобусе, пока его не удовлетворит результат. Носила в прачечную мешки с грязной одеждой и готовила ему сэндвичи на обед, всегда одни и те же – из цельнозернового хлеба без корочки, с чеддером, соусом чатни и двумя толстыми кружками огурца в каждой треугольной половинке.
Я быстро научилась выкраивать время для собственной работы между этими нехитрыми заданиями. Пока чинили его туфли, я садилась на набережной в Маленькой Венеции и, отхлебывая из фляжки с чаем, рисовала прохожих в тумане, мосты и хаотичное движение транспорта. Я собирала за Джимом бумажные пакеты, в которых продавались бутылки виски, и складывала себе в сумку, чтобы делать на них наброски. Я собирала волосы в пучок и закрепляла карандашами – крест-накрест, по-азиатски, – чтобы всегда было чем рисовать.
Я обнаружила, что за несколько украденных часов способна продвинуться дальше, чем Джим Калверс за две недели. Подавленный, с опухшими веками, он появлялся на пороге мастерской в восемь утра и никогда не задавался вопросом, где я провожу часы до его прихода, подобно тому, как завсегдатай кафе не задумывается о маневрах, совершаемых на кухне. Он не видел, как я брожу по Риджентс-парку на заре, когда трава покрыта инеем, а зеркало озера неподвижно, не видел, как я рисую птиц, силуэты зданий, деревья со срезанными верхушками – детали, которые ночью я перенесу на холст. В первых лучах солнца Паддингтон выглядел по-особенному: развалины, оставшиеся после блица, живые и романтичные, словно заключали в себе нерассказанную историю. Иногда, усевшись на стену на Бриндли-стрит, я рисовала то, чего не существует – призраков, обитавших в пустотах. А иногда гуляла вдоль канала, зарисовывая бродяг, спавших на крышах пустых барж. Если я успевала вернуться в мастерскую к восьми и встретить Джима тарелкой горячих булочек с изюмом, драгоценные ранние часы были моими.
Вскоре я уже помогала Джиму в работе. Ему не удалось убедить своего единственного покровителя Макса Эвершолта, что картины с пустыми комнатами (“портреты отсутствия”, как он их называл) заслуживают персональной выставки, поэтому он вернулся на знакомую территорию. Гуляя по улицам с фотоаппаратом, я искала для него новый материал: скиффл-группы[27], репетирующие у входа в кофейни; автобусные кондукторы, возвращающиеся домой; облаченные в вискозу девушки в очереди в кинотеатр; мальчишки, играющие в кости на тротуаре. Если какой-то снимок пробуждал в Джиме интерес – необычной улыбкой, кислой миной или иной странностью, – он платил мне пару шиллингов и остаток дня копировал фотографию масляными красками. Еще я собирала его рисунки углем в альбомы и на каждом надписывала дату, чтобы он мог проследить развитие своих идей. Он любил говорить, что я составляю хронологию его краха, а я любила говорить, что он уже достал своей хандрой.
Я работала на Джима Грэма Калверса девять месяцев. Если бы мне тогда сказали, что я в него влюбляюсь, я бы не поверила. Все, что в нем было привлекательного, он упрямо скрывал за неопрятностью и пьянством. Он днями не мылся, а когда работал над картиной, еще и отказывался мыть голову. Порой его кислые тельные испарения настолько пропитывали мастерскую, что заглушали даже запах скипидара. Закончив картину, он брился почти под ноль и выходил из ванной с пеной в ушах.
Пустая болтовня на Джима не действовала. Если натурщицы начинали рассказывать, как они провели лето, он поджимал губы и кивал, пока они не умолкнут. По утрам, пока я устанавливала мольберт, он разглядывал свое отражение в оконных стеклах. Глаза у него слишком оплывшие, говорил он (“как у овцы”), щербинка между передними зубами слишком большая, подбородок слишком массивный, нос слишком торчит (“как, мать его, подвесной мотор”). По отдельности части его лица и правда выглядели необычно, но вместе приятно уравновешивали друг друга. Со временем я поняла, что это жалобы тонкого ценителя, а не нарцисса. Несовершенства интриговали его: он мог часами дивиться мозаике трещин на фарфоровом блюде, щетинкам, застывшим в лаке дверного наличника, глупым опечаткам в газете. Все безупречное он считал фальшивым и подозрительным. “Люди у тебя на снимках слишком смазливы, – говорил он. – В следующий раз покажи мне что-нибудь другое. Мне нужны лохматые головы, шрамы и неудачные татуировки. Эти ребята будто сошли с обложки. Даже у кондуктора длинные ресницы. Придется сделать его в десять раз уродливее”.
Я знала Джима так, как должна знать мужчину только жена. Я знала, как урчит у него в животе, где мозоли у него на стопах, какие мелодии он насвистывает в сортире, какие рубрики читает в газете. Я знала, что у него аллергия на арахис, ревень, персики и крабов, и, сколько бы он ни клялся в обратном, сразу понимала, в чем дело, если он что-то из этого вкушал (его выдавали хрипотца и слезящиеся глаза). У него была фирменная шутка про мать Уистлера[28], которую я слышала сотню раз, и любимая детская история, неизменно включавшая фразу: “Мой старик, видите ли, был англиканцем и хотел, чтобы я пошел в священники”.
Такие мужчины не очаровывают с первого взгляда. При виде него у тебя не перехватывало дух и не дрожали коленки, хотя, сказать по правде, женщины моего поколения этого и не ждали. Тихо и неторопливо он перестраивал на свой лад струны твоего сердца, пока заданная им тональность не начинала казаться тебе единственно верной. Если моя карьера художницы началась на задах родительского дома, то ее продолжением я обязана Джиму Калверсу. В свободное от работы время я могла спокойно заниматься творчеством, а если бы не Джим, меня, возможно, так никогда бы и не заметили. Я не догадывалась, как сильны мои чувства, пока не перестала быть частью его распорядка.
В один такой ничем не примечательный январский день – холодный, серый, моросящий – Джим позвонил в дверь мастерской. Я думала, что он снова забыл ключи, но, открыв дверь, увидела у его ног три холщовых мешка.
– Помоги, а? – сказал он и прошел внутрь с двумя мешками поменьше, предоставив мне тащить самый большой.
Внутри лежали обычные с виду банки малярной краски. Потертые этикетки сообщали:
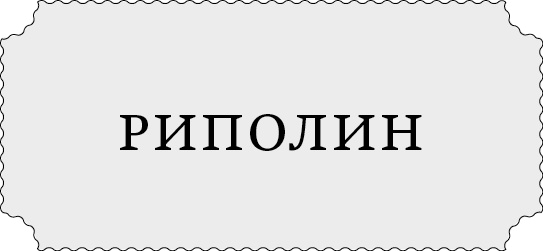
Я заволокла мешок в мастерскую и по просьбе Джима выстроила из банок пирамиду у окна.
– Годилась для Пабло, сгодится и для меня, – сказал он. – Давай открой одну банку. Хочу посмотреть, в каком состоянии краска.
Поставив банку на пол, я поддела крышку черенком ложки. В нос ударил аммиачный запах. Олифа отделилась от пигмента и бурой лужицей скопилась на поверхности.
– Что это? – спросила я.