«Пастуший календарь», первое крупное произведение, опубликованное Эдмундом Спенсером (1552 или 1553 — 1599), одним из крупнейших поэтов Елизаветинской эпохи, сыграл решающую роль в окончательном образовании литературного английского языка. Ныне, без малого четыре с половиной столетия спустя, он остается не просто литературным памятником, знакомство с которым обязательно для каждого просвещенного читателя, но и живым, увлекательным чтением.
Первая публикация «Календаря» содержала пространные, сплошь и рядом чисто иронические примечания, составленные Спенсером от имени вымышленного «Э. К» и воспроизводимые в предлагаемом русском переводе со всевозможной доступной полнотой.

Эдмунд Спенсер
Пастуший календарь

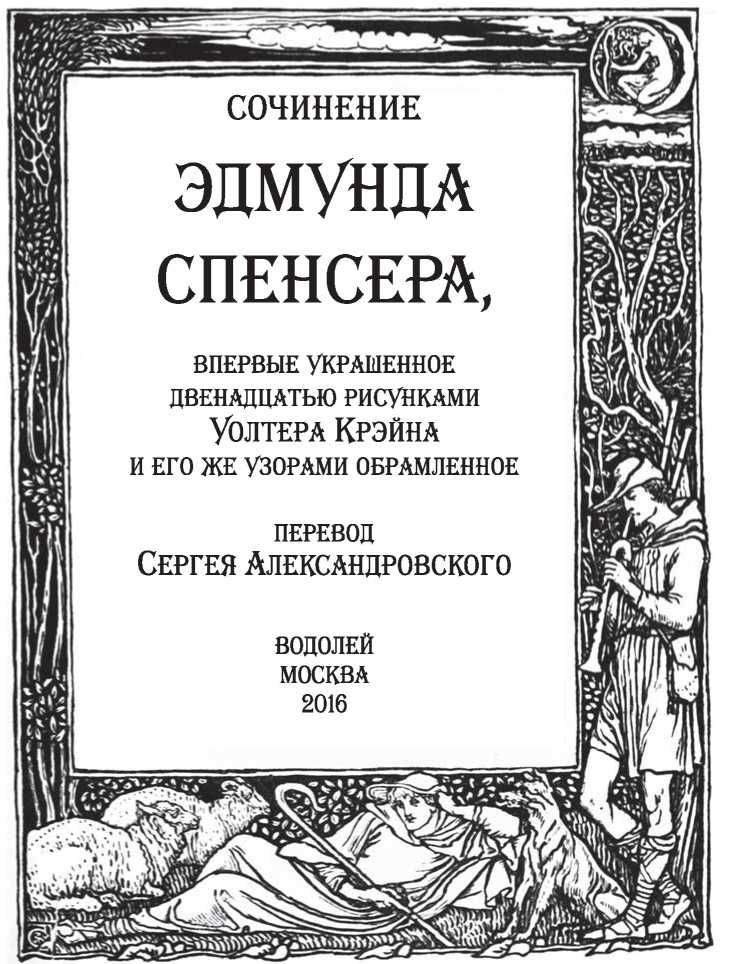
Лилии Александровской — с любовью
Сердечно благодарю моих друзей — поэтов и переводчиков Татьяну Берфорд, Илью Будницкого, Евгения Витковского, Геннадия Зельдовича, Андрея Кроткова, Юрия Лукача, Вадима Молодого, Сергея Слепухина и Евгения Фельдмана за бесценную поддержку, оказанную ими во время работы над этой книгой.
Приношу особую благодарность ученым-филологам: профессору Дмитрию Николаевичу Жаткину и доценту МГУ, поэту и переводчику Олегу Александровичу Комкову.
ПАСТУШИЙ КАЛЕНДАРЬ,
НАПУТСТВИЕ СЕЙ КНИГЕ
«ПРИШЛЕЦ БЕЗВЕСТНЫЙ»[1], речется у Чосера, славного старинного Поэта, коего за превосходное и предивное искусство стихослагательское ученик его Лидгейт — весьма достойный ученик столь славного наставника — зовет Полярною Звездою наречия Аглицкого, а наш Колин Клаут в Эклогах своих прозывает богом пастушьим Титиром и сравнивает с Титиром латинян, Вергилием. Сие словесное сочетание, о добрый мой друг, мэтр Гарвей, знатно послужило старому доброму поэту, будучи им влагаемо в краснобайские и не угомонные уста Пандаровы; оно же изрядно подходит и к нашему новоиспеченному Поэту, ибо сей и пришлецом (как у Чосера сказано) почитаться может, и, безвестный для большинства людского, удостоился внимания лишь немногих. Однако не сомневаюсь: едва лишь имя его содеется знаменитым и возгремят златокованые трубы славы о достоинствах и доблестях его, не токмо всяк облобызает его на пороге своем, но и всяк возлюбит его, и почти всяк обоймет; а кто почище да поблагородней, тот еще и восхитится им. Никак не меньшего, мнится мне, достойны его изощренность в изобретениях, его красочность в речениях, его сетования любовные, слуху любезные, и раздумья о наслаждениях, для чувствительности сладостные, и бесхитростная прямота его, и мудрость его нравственная, и достодолжное соблюдение им Благопристойности в описании лиц действующих и времен года, в предметах изображаемых и построениях словесных; коротко сказать, похвальная простота повествования и совершенство словесное; ведаю, что среди многого иного, кое во стихотворце сем удивления достойно, сие покажется всего прочего удивительнее, ибо словеса, толико обветшавшие, сопрягаются весьма сжато и хитроумно, а периоды речевые и мера оных зело восхищают округлостию своею и вельми поражают необычайностью. И, главным образом о сих словесах говоря здесь, признаю: оные суть немного шероховаты и никем из людей не употребляются, но все же пред нами глаголы Аглицкие и употребляемые доныне большинством Творцов и большинством знаменитых Пиитов. И, ежели сей Поэт учился у них в поте лица своего и начитан преизрядно, то не диво, если (как молвится у вышепомянутого Златоуста), бродя под знойным солнцем, поневоле почернел, — сиречь, ежели все время звенели в ушах его созвучия оных старых Пиитов, мог он, сочиняя свое собственное, поневоле вторить кое-каким их напевам. Но как бы ни вторил он — то ли наугад и наобум, то ли с должным разбором и целью, полагая оные словеса уместнейшими в устах неотесанных овчаров, то ли уповая, что неблагозвучие содеет рифмы его корявее и простонароднее, то ли поелику глаголы столь древние и обветшалые остаются в изрядном ходу среди сельчан, — как бы там ни было, а я мыслю, и мыслю, что мыслю здраво: они сообщают речи стихотворной превеликое изящество и, с позволения сказать, некую властность. И пускай Валла[2], порицавший Тита Ливия, а равно и другие, Саллюстия бранившие, особо хулили обоих за избыточную изощренность, вредящую знаниям о старине, щедро былым векам прибавляющую достоинства и чести, — да ведь мыслю, иные ученейшие мужи тем же самым грешны, а превыспренние глаголы древ — ние суть великое украшение трудам и одного и второго, ибо первый тщился явить в Истории своей нетленный образ древности, второй же излагал всеусердно дела важности первостепенной. И, ежели память не подводит меня, в той же самой книге, где Туллий прилежно излагает нам достоинства всесовершенного краснослова, пишется, что часто способен древний глагол содеять слог наш степенным и даже достопочтенным по той же причине, по коей почтенны меж нами людские седины — благодаря известному благоговейному преклонению пред старостью. Одначе не всюду надлежит нам втискивать речения старинные, ниже простонародные, чернью исковерканные, дабы не уподобить витийства нашего чертогам, пращурами выстроенным и в развалинах ныне пребывающим. Помыслим о том, как изысканные холсты запечатлевают и представляют взору не токмо утонченные очертания прекрасного, но и округ него дикие заросли да расселины каменистые, зане грубое соседство оных главному изображаемому предмету вящего блеска придает; и мы почасту оказываемся — уж и не ведаю как именно — премного восхищены, созерцая виды природы первобытной, и великое наслаждение почерпаем в оном порядке беспорядочном. И так же в точности помянутые словеса ветхие и грубые соседством своим лишь прибавляют величия речениям благородным и славным. И так же почасту нестройный аккорд музыкальный оборачивается созвучием нежным; и так же великую радость испытал достойный пиит Алкей, узревший родимое пятнышко на теле, стройном безупречно. Но ежели кто-либо и похулит опрометчиво таковое предпочтение, при пиитическом выборе отдаваемое словесам непривычным и старым, ответно и по большему праву похулю и разбраню оного зоила, с несмысленным упорством судящего, либо с упрямством безоглядным приговор изрекающего, ибо поспешает он бухнуть в колокол, допрежь того не поглядевши в святцы. Насколь разумею, всяческая хвала Поэту новому причитается, и особливая подобает за многие старания, коими в древних правах восставил он сызнова добрые, исконные словеса Аглицкие, иже в длительном забвении обретались, и едва ли не в полном презрении, бывшем единственной причиной тому, что язык наш отечественный, сам собою достаточно богатый для прозы и предостаточно возвышенный для стихослагательства, долгое время почитался весьма скудным и лишенным обоих оных свойств. И когда мужи некие тщились выправить и пополнить скудость сию, латали они прорехи обрывками да тряпицами иных наречий, семо заимствуя из Французского, тамо из Италианского, а всеместно из Латыни, отнюдь не мысля о том, сколь прескверно языки сии сочетаются друг с другом, а уж тем паче сколь гнусно с нашим собственным; и ныне содеяли речь Аглицкую доподлинной кашей и месивом истинным, черпая отовсюду без разбору. Иные же, языком своим Аглицким владея, вероятно, горше, нежели чужеземными, внемлют глаголу коренному, всецело природному и смыслом исполненному, и тотчас вопиют: не по-Аглицки молвите сие, но по-басурмански, а вернее того, по-ахинейски, яко же матерь Эвандрова[3] прорицала древле. И срам велий им, во-первых, за то, что сраму не имут, языку своему праотеческому чужаками будучи и супостатами; второй же срам паче первого, ибо чего сами уразуметь не могут, немедля то чтут бессмысленным и никому не внятным. И подобятся Кроту из басни Езоповой, иже, будучи слеп, никоим образом веры приять не желал, что всякая иная тварь глядеть и видеть способна. Третий же срам и стыд пуще обоих помянутых, ибо собственной землей своей небрегут, а собственную речь, с молоком Кормилиц некогда впитанную, в таковом презрении содержат и судят настоль неправедно, что не токмо ни сами не тщатся изукрасить и возвысить ее, но еще и горько сетуют, ежели кто иной расцветить ее намерен. Псу, на сене возлежащу, подобны, иже сам ничтоже вкушает, но лает на гладкого быка, пищи алкающего; да, породу сию шелудивую не удержишь от лая, но след и поблагодарить ее, ибо, по крайности, кусать еще не смеет. Что же до того, как сопрягаются воедино речения, почитаемые удами и суставами повествования стихотворного, и до всей меры оного, одно скажем: стихи сии гладки, да не пресны, учены, да не тяжеловесны; их возможет выслушать невежда, уразумеет почти всякий, а оценит лишь просвещенный муж. Ибо что у многих пиитов Аглицких случайно да неряшливо, едва ли не расхристано, то у сего творца на доброй основе покоится, ладно скроено и крепко сшито. Замечу кстати, что презрения и хулы достойно сборище рифмоблудов наших косноязычных, целою сворой за славою охотящихся: несведущи бываемы — хвастают, несмысленны бываемы — судить берутся, а уж витийствуют напропалую без толка и повода, как если бы некое наитие Поэтическое внезапу возносило их над прахом бездарности всеобщей. И, погрязшие во трясине собственной продерзости, равнодушны суть и к предмету изображаемому, и к рифме, и к замыслам изначальным своим позабытым, а радеют, мнится, всячески лишь об одном: память какую ни на есть по себе в потомстве оставить — словно роженица, либо вышеозначенная Пифия, во прорицалище глаголющая:
Но да вкусят безумцы от собственной отравы, дабы чернить не смели чужой бессмертной славы! Что до Колина, под личиной коего кроется сам Автор, он весьма далек от мысли гнаться за трескучими прозваниями да пышными почестями, как явствует из его речей :
Явствует сие также из мужицкого имени его, прикрывшись коим, предпочел он постепенно разворачивать пред читателем пространный предмет изображения, и вести речь об оном, оставаясь, якобы, повествователем недостойным и пресмиренным. А подвигся он к сочинению Эклог, а не иных творений, сомневаясь, возможно, во способностях своих (коих ему, впрочем, не занимать стать), либо намереваясь обогатить язык наш, в коем сего рода поэтического недостает, либо следуя примеру пиитов наилучших и наидревнейших, иже изобрели сей род, в изображаемых предметах низменный, а в слоге выспренний, дабы впервые силы свои стихослагательские испытать, яко же птенцы-слетки, едва гнездо покидающие, понемногу пробуют слабые крылья свои прежде, нежели принимаются ширять в поднебесьи невозбранно. Так и взлетал Феокрит, хоть и оперился тогда уже явно и вполне. Так взлетал и Вергилий, крыльями своими еще владевший не всецело, так и взлетал сей Мантуанец, достигая полной зрелости. Петрарка тож. И Боккаччо тож. Тож и Маро, и Саннадзаро и многоразличные иные Италианские и Французские превосходнейшие Пииты, по чьим стопам сей Автор следует прилежно — да лишь немногие, острым чутьем наделенные, способны уследить его путь. Взмывает, наконец, и новый сей Поэт наш, подобно птице, иже едва маховые перья отрастить успела, одначе в грядущее время возможет летать со стремительнейшими наравне.
Касаемо же общего замысла и предназначения сих Эклог я не стану рассуждать подробно, ибо сам их создатель тщится сокрыть оные. Одно лишь очевидно: бурная младость его долго скиталась в обычных Лабиринтах Любовных, пытаясь умерить и остудить возрасту присущий страстный пыл; и дабы остеречь (так он молвит) юных пастухов, сверстников своих и собратьев по безумствам, сложил наш Поэт нижеследующие XII Эклог, а поелику соответствуют оне XII месяцам, то и книга наречена «Пастушьим Календарем»: заглавие старое послужило творению новому. К сему же я присовокупил некий Глоссарий, сиречь Схолии, дабы истолковать ветхие словеса и речения темные; хорошо ведаю, что сей обычай толкований и примечаний покажется странным и нашей словесности чуждым, одначе, насколько ведаю, множество превосходных и уместных речений, а такожде упоминаний, торопливыми чтецами без должного внимания оставлены бывают либо как незнаемые, либо как незначащие; а дабы и в учености уравняться возмогли мы с иными просвещенными народами, почел я за благо труды предпринять немалые, тем паче, что, знакомству близкому благодаря, содеялся поверенным сего Поэта и уразумел тайный смысл его творений, яко же сих нижеследующих, тако и различных прочих. И хоть ведаю, сколь премного ненавистна ему огласка, осмелился злоупотребить его дружеством: сам Поэт уже давно удалился от света, и аз грешный уповаю, что дерзость оная побудит его издать и обнародовать остальные превосходные творения свои, ныне в безвестности почиющие, как то: «Видения», «Сказания», «При дворе Купидона» и прочие, хвалить кои было бы излишне; творения сии достойны внимания многих, однако известны лишь избранным. А приятны иль полезны тщания мои нынешние окажутся кому бы то ни было, да рассудит сам возлюбленный и добрый мэтр Гарвей, коего чту одновременно за всевозможные достоинства, ему присущие, и по неким соображениям частным и особым, и коему препоручаю вышепомянутый свой труд купно с первым оттиснутым созданием поэтическим общего друга нашего, оное же в самом начале своем посвящено Благородному и достойному Дворянину, достославному Филиппу Сиднею, признанному другу и попечителю всяческой учености. Молю вас, о друг мой: коль скоро досужая Скука возведет на Поэта бранчливый поклеп, то выступите, по мере сил, защитником, и да послужат вам оружием всемогущее Красноречие ваше вкупе с прочими редкостными дарованиями, просвещением вам ниспосланными; оградите благосклонностью своей Поэта от супостатов многочисленных, злобных и бессовестных, чье неистовство, как я полагаю, воспламенят искры нежданно воспылавшей славы. Итак, препоручаю заботам вашим сего творца, друга вашего и наперсника; себя же самого препоручаю вам обоим, ибо числю вас друзьями своими добрыми и преотменными, а засим от чистейшего сердца прощаюсь и желаю вам всего наилучшего. Пребывайте и впредь под эгидою величайших наставников и творения их берите своим собственным за образцы.
Полагаю, кстати, милый Гарвей, что узрев создания близких друзей ваших и собратьев по перу поэтическому, либо же наскучивши видом толикого множества никчемных виршеплетов, посягающих на венец, вам единому причитающимся по праву, решитесь и вы извлечь из тьмы забвения ворох отличнейших своих стихотворений Аглицких, под спудом покоящихся доселе, и выпустить их во свет немеркнущий. Право слово, длительным небрежением чините вы не — справедливость вящую и строкам своим, лишая их во — жделенных лучей солнечных, и себе самому, отрицаясь хвалы заслуженной, и всему роду человеческому, отнимая у него божественное наслаждение, кое возможно почерпать в изысканных ваших стихах Аглицких подобно тому, как уже черпали и черпают оное в Латинских ваших сочинениях, иже, мыслю, суть зело изысканны по части Красноречия и выдумки, и превыше любых наилучших подобных обретаются. Засим же сызнова говорю: прощай и здрав буди, мой добрый Гарвей. Писано в жилище моем лондонском сего 10 апреля 1579.
ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ВСЕЙ КНИГИ
Нет, надеюсь, никакой особой нужды подробно повествовать о первоисточнике Эклог, понеже оный уже помянут. Но поелику ведаю, что само слово Эклога пребывает неведомым почти никому, да и кое-кем из наиученейших (по собственному их суждению) мужей толкуется неверно, то надобно молвить по сему поводу нечто, имеющее известное касательство к предмету повествования моего.
Еллины, кои оные Эклоги изобрели, наименование