Когда армия сталкивается с плотными массами гражданского населения, она их рассеивает, не прибегая к крайним мерам. Мы так и поступали. Но через час или через день они вновь собирались, и все начиналось сначала. Это была какая-то дурная бесконечность, и чувство беспомощности постепенно овладевало нами. Тогда и стали солдаты прибегать к физическим методам воздействия. Иными словами, бить смертным боем.
Инициатива, исходившая снизу, была молчаливо одобрена сверху, и со временем превратилась в норму.
Нет, это не было похоже на схватку, когда — глаза в глаза. Солдат против бунтовщика. Солдаты с палками гонялись за ними. И когда догоняли, то били кого попало и по чему придется. Тут уж было не до презумпции невиновности. Попался — получай. Они прятались, как тараканы. Но мы находили их всюду. Даже в их собственных постелях. Эти методы ни для кого не были секретом. Они бунтовали еще до интифады, а мы их уже тогда били. Да и что нам оставалось делать, если только это на них и действовало? Командиры в устных директивах отмечали эффективность подобной меры.
Мы стремились вывести их из замкнутого круга насильственных действий. Они должны были усвоить, что насилие порождает лишь насилие. Они должны были научиться нас бояться.
Где, однако, проходит тонкая грань, отличающая необходимость от своеволия? Мордехай додумался, например, до такой меры, как «динамичный комендантский час». Каждый мог интерпретировать эту формулировку, как ему вздумается. Директива генерала предписывала лишь не давать им спокойно спать по ночам. И в лагерях беженцев их поднимали ночью и гнали на улицу для промывки мозгов. Мордехай полагал, что таким способом он вымотает их до последней степени и отобьет охоту к дневным «концертам». Кому хочется заниматься по ночам такой работой? Наши солдаты, взвинченные и раздраженные, выгоняли их на улицу ударами. Старались выместить на них свою злость…
Авторитет Мордехая тяготел над нами, сгибал нас своей тяжестью. Мы обязаны были шагать в ногу и петь в унисон. Плохо доводилось тому, кто осмеливался критиковать действия «хозяина». Одному офицеру Мордехай сказал: «Ты говоришь, как Амер, и я этого не потерплю». Мне же он бросил с презрительной усмешкой: — Ты считаешь, что кроме тебя, никто ничего не понимает. — Вовсе нет, — ответил я, — просто мой долг офицера заключается в том, чтобы говорить, что думаю.
Начальник моего оперативного отдела майор Нахум передал мне, что Мордехай приказал не докладывать больше о пострадавших от избиений. Я разозлился. Это означало, что командующий решил справиться с возникшей проблемой в присущей ему манере. Он не приказал не бить. Не распорядился умерить рвение. Он сделал вид, что проблемы вообще не существует.
Более того, Мордехай приказал докладывать ему лишь о главном и тем самым порвал необходимую для командующего связь с реальностью. Командиры — от старших до младших — докладывали генералу лишь то, что он хотел услышать. Их доклады не отражали реальной жизни. Мордехай прямо сказал: «Мне не важно, как вы обуздаете бунтовщиков. Мне важно, чтобы вы это сделали…»
Теперь уже можно было бить бесконтрольно. Бригадный генерал Ор сказал мне: «Мы все пойдем под суд рано или поздно. Помяни мое слово».
Проблема даже не в том, что мы вынуждены были их бить, а в том, что нас заставили это делать на свой страх и риск. Генерал-майор Мордехай растлил солдат, превратил их в садистов, а сам ушел от ответственности…
Как-то ехал я в одной машине с командующим. Вдруг груда камней преградила дорогу. Мордехай вышел и приказал стоявшему на обочине арабу, прилично одетому, интеллигентному на вид, разобрать завал. Араб начал было возражать, но Мордехай дважды ударил его в лицо. Спокойно, по-деловому, без злобы. И принудил к повиновению. Араб разобрал камни. Руки его дрожали. Слезы, смешанные с кровью, катились по его лицу.
Это был личный пример, показывающий, как надо себя вести. И каждый бил в меру своего разумения. Одна рота ломала кости. Другая расшибала в кровь физиономии. Я, например, запрещал бить женщин, детей и стариков. Но в других частях не останавливались и перед этой низостью.
Ицхак Мордехай делал вид, что ничего не происходит. В генштабе продолжали считать его лучшим нашим генералом, образцом для подражания. Всем было удобно, что инициатива исходит снизу. Я открыто говорил, что думаю, всюду, где мне разрешалось выступать. И когда понял, что ничего изменить не могу, ушел из этого округа.
Вы спрашиваете, не испытываю ли я к генералу Мордехаю личной неприязни? Да, испытываю, как и к каждому человеку, стремящемуся избежать ответственности за свои поступки…
Конец трагедии
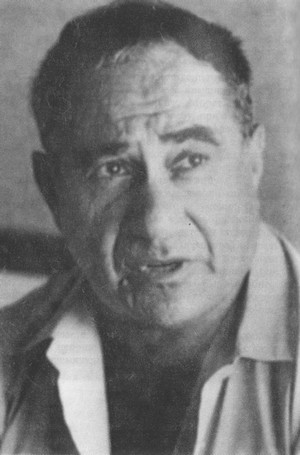
Шестеро генералов несли покрытый национальным флагом гроб генерал-майора в отставке Шмуэля Гонена (Городиша) к месту последнего упокоения на военном кладбище в Гиват-Шауле. Вся военная элита собралась здесь, чтобы отдать последний долг человеку, считавшемуся когда-то эталоном доблести для всей армии. Но не только представители отринувшего Городиша политического и военного истеблишмента шли за гробом бывшего командующего.
«Это самые странные военные похороны из всех, которые я когда-либо видел», — пробормотал генерал-майор запаса Ори Ор, глядя на клубящуюся под лучами неумолимого солнца людскую массу.
Казалось, что все неудачники, все пасынки жизни, раздавленные колесами судьбы, все отверженные обществом парии выползли из своих укрытий и притащились сюда, чтобы проститься с этим человеком.
Но цепочка полицейских не подпускает их к открытой могиле. Лишь избранные стоят там, и среди них те, кого покойный числил в стане своих гонителей, — последний колоритный штрих, завершающий трагедию этой жизни…