«Таежный моряк» и «Двенадцатая буровая» — повести В. Д. Поволяева о людях нынешней Сибири. Их герой — наш современник, рабочий человек, место действия — нефтяная сибирская земля, Тюмения.
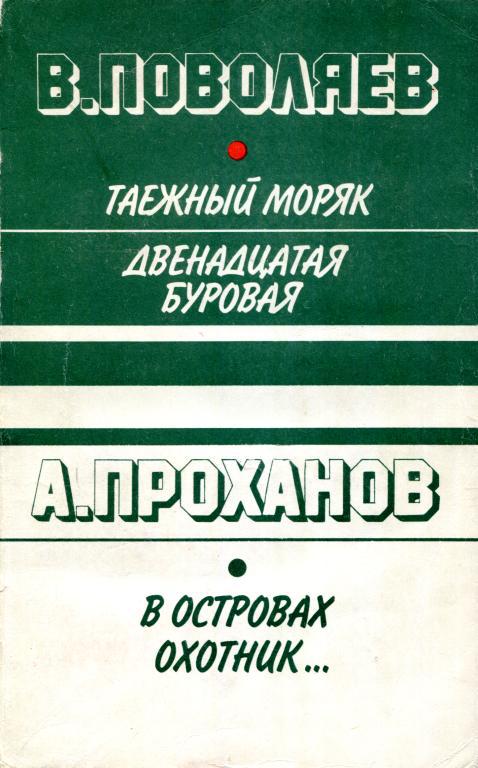
Таежный моряк. Двенадцатая буровая

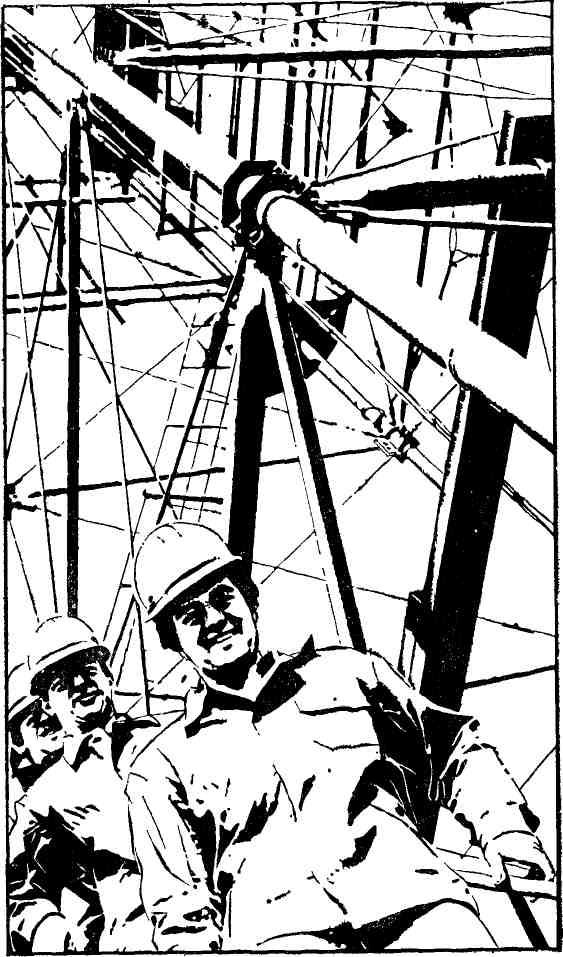
ТАЕЖНЫЙ МОРЯК
© Современник. 1981.
Он появился у нас в отряде под вечер, маленький, крепко сработанный, о таких говорят «клещистый», с прочной неспешной походкой, в затертой дошке, в кисах — легких, нарядных, сплошь в цветастых строчках, унтах, сшитых из оленьих лапок — меха вековечной прочности, что никогда не вылазит, не тратится молью, не грязнится… И что самое потрясающее, от чего «прекрасные мира сего» — девчонки наши, прямо-таки охнули — в пятидесятиградусный мороз, да с ветерком (а это добавьте еще градусов десять) — на голове у него гнездилась черная, малость поблекшая от морских приключений бескозырка с рыжевато-бронзовой гвардейской лентой, вдоль которой были тиснуты выцветшим от времени металлом буквы — название флота, где он служил. Вот так.
Правда, в руках пришелец держал малахай. Так что по морозу он шел не в бескозырке.
Лицо у пришельца было костистое, с крутым бугристым лбом, глаза — в постоянном прищуре, будто он все время двигался против ветра. На круглом, крепком, как репа, подбородке — раздвоина, а чуть сбоку — веретенцем — выщербиной застыл небольшой, но глубокий шрам. Словно птица сюда клюнула, вот след и остался.
Ввалившись в «диогенову бочку» — круглый и действительно похожий на бочку балок, этот домик на съемных полозьях, — и, сделав руками несколько морских гребков, пришелец разогнал тугой, будто сработанный из резины, морозный пар, с гудом ворвавшийся следом в дверь, затем, ни слова не говоря, прошел к бачку с открытой крышкой, где находилась вода, зачерпнул немного кружкой, выпил, выдохнул, словно пил не воду, а хмельной взвар, и вдруг быстро-быстро заработал ладонью у рта, словно изгоняя что-то, и все услышали немного странное, птичье, от чего неожиданно пахнуло летом, духом разогретого луга и недалекой речки, в которой полощутся сытые голавли: «Чик-чик-чик-чик…» Отчикавшись, пришелец снял бескозырку:
— Генкой меня зовут. Фамилия — Морозов, — сказал он. — Для женщин сообщу год своего рождения. Двадцать два года мне, вот. Бывший моряк — поначалу торгового флота, а потом военного. Служил на гвардейском корабле…
— Моря-як с печки бряк, растянулся, как червяк, — выпрямившись на стуле и вскинув руки так, что все на груди у нее обтянулось и мужики дружно зыркнули глазами в ее сторону, пропела Любка Витюкова — девка красивая, с вызовом в глазах, но недотрога, это знали все, потому особых надежд не питали. Вдобавок ко всему она еще и замужем была. Хоть и не жила с мужем, а все-таки… — Ну что замолчал? Давай продолжай выкладывать свою анкету дальше. Образование? Партийность? Сколько классов кончил? Семейное положение? Был ли за границей? — Витюкова усмехнулась, увидев, что по лицу моряка поползла прозрачная тень растерянности, чего-то детского, неожиданно квелого, что никак не соответствовало бравому развороту его плечей, и в глазах будто гнездышко, домик какой свою дверку распахнул, и из протеми выглянул золотистый кукушонок, клюв обиженно разинул. — И вообще, дорогой товарищ, когда входят в дом — прежде всего «здравствуйте» говорят.
Тяжелый кирпичный румянец наполз на Генкины щеки, кукушонок захлопнул за собой дверку уютного домика, свет в зрачках угас.
— Здравствуйте! — произнес Генка голосом человека, у которого болит голова.
— Здравствуйте, — поздоровалась Люба Витюкова церемонно, добавила, малость нагнув голову: жест такой, будто в ней королевская кровь текла, — товарищ Чик-чик. Проходите, садитесь, — она повела рукой в сторону, — примите участие в нашей деревенской мотане. Можем научить песенки петь, рассказывать вечно юные сказки про Алладина и волшебную лампу, Али-бабу и сорок разбойников, есть также две детские дразнилки, вода и компот, есть обязательный сухой закон, два бравых незамужних рыцаря, — она повела рукой еще шире, — командир бульдозеристов Виктор Иваныч Пащенко и мастер товарищ Лукинов Пе Пе, что в расшифровке означает Петр Петрович. Есть консервированные помидоры, привезенные с Большой земли и гуляш по-вечернему — приготовления местных мастеров кухни. Годится?
— Ишь ты! «Ей, оказывается, ничего не стоит плюнуть в душу рабочего подростка»… Цитата, — проговорил моряк и снял бескозырку. Волосы у него были длинные, путаные, будто он давно не расчесывался, с веселыми кудрявыми загибушками на концах. — К вашему гуляшу с помидорами, да к дразнилкам могу добавить кое-чего из своих запасов, — освоившись, произнес он в тон, — из съедобного есть колбаса «ухо-горло-нос» по шестьдесят пять копеек килограмм…
— Это что еще такое?
— Ливерка. Колбаса есть такая, ясно? Два кругляша. Из несъедобного — «хрюндик» — хрипучий магнитофон «Ореанда» с обломанной крышкой и ваш покорный слуга, — моряк глухо пристукнул кисами друг о друга, — который всегда со всеми, когда плохо, и всегда один, когда ему хорошо. Прошу любить и жаловать за откровенность.
Честно говоря, он не ожидал такого приема, такого наскока, в котором можно и голову, и обувь, и шапку-малахай потерять. Хоть у него самого язык подвешен неплохо, но тут, оказывается, языки еще лучше работают. Он поглядел на Любку Витюкову, и вдруг что-то тревожное и одновременно легкое, словно сон перед пробуждением, кольнуло его в подгрудье с левой стороны, подумал, что, наверное, именно такая женщина бывает необходима моряку до слезного стона, до остановки дыхания, до круто шпарящей боли, до приступа, после которого сердце, это вечное «магнето», прекращает свою работу, до полного смятения, до угасающего вздоха… И он сразу погрустнел, будто в нем увяло биение крови. У Генки не было еще своего угла в жизни, крыши над головой, он — подкидыш, воспитанник детского дома. После детдома — школа-мореходка, где он получил специальность матроса, потом плавание в жарких краях, которые впоследствии ему часто снились, поражали своей беззаботностью, легкостью, а затем — военный флот… И все. И женщины любимой не было, и негде было притулить голову. И невозможно обмануть себя, забыться, лечь, как говорится, на дно.
Сейчас перед ним находились люди, с которыми ему предстояло вместе проработать последующие полторы-две недели, предстояло делить пополам хлеб и соль, костерный дым, тепло, мороз и пургу, и даже воду — тоже пополам из одной кружки, потому что места здешние — гниль и болота, вода тут прелая, с ядом, трупная, ею отравиться можно. И надо же, где люди добро для себя нашли, нефть и газ — и как они только в здешней бездони земляное маслице отыскали, уму непостижимо. Ан нет, выходит — постижимо, раз отыскали… А теперь вот дорогу на Север тянут, чтоб жизнь в места, ранее безжизненные, принести.
Кирпичная бурость окончательно стекла у него со щек, во взгляде появилась веселость, и любопытный кукушонок, спрятанный в зрачках, распахнул свою дверцу, выглянул наружу, вызвездил все вокруг бронзовым порохом — Генка-моряк посмотрел на Любку пристально, и подумалось ему: обязательно что-то должно с ним произойти, а вот что — он не знает. Не дано, не ведомо. Он улыбнулся смущенно и, чтобы прикрыть свою смущенность, проговорил грубо и весело:
— Ну что? «Ухо-горло-нос» выставлять на стол? Иль попридержать?
— Горло и нос можешь выставить, а ухо попридержи, завтра второе из него сготовим…