Противники Цезаря совершенно не желали признавать его свершений за недолгие месяцы мирной власти, их не интересовали его грандиозные замыслы… они воображали себя борцами за свободу, за восстановление попранной республики, в упор не замечая очевидного: «римская свобода» давно уже выродилась в скудоумную олигархию, решительно неспособную управлять державой. В рамках действующей политической традиции добиться ощутимо позитивных перемен в жизни Рима было невозможно[176]. Марк Туллий Цицерон возлагал надежды, правда, на появление некоего идеального управителя государства, какового он именует rector rei publicae, либо rector сivitatis. Этот образцовый государственный муж, чуждый стремлениям к славе, почестям, богатству, личной власти должен был бы укрепить римское государство, покоящееся на древних традициях, и тем обеспечить его процветание[177]. Цезарь, понятное дело, никак не подходил на роль такого вот идеального государственного мужа, ибо любил он и славу, и почести, и богатство, а более всего личную власть. Потому-то и видели заговорщики в Цицероне своего единомышленника.
Что же успел совершить Цезарь? Прежде всего, он реформировал сенат. Таковой был увеличен с шестисот до девятисот человек, а пополнили его представители всадничества, италийской знати и даже галлы, что немедленно привело к появлению в Риме забавной песенки: «Галлов Цезарь вёл в триумфе, галлов Цезарь ввёл в сенат, сняв штаны, они надели тогу с пурпурной каймой»[178]. Такая политика была сильнейшим ударом по претензии нобилитета сохранить монополию на господствующее положение в сенате[179].
Принципиально новой стала при Цезаре политика по отношению к провинциям. В них стало по его инициативе широко распространяться римское гражданство. И, главное, прежней политике беззастенчивого грабежа этих «поместий римского народа» руками бесчестных публиканов, представлявших, прежде всего, интересы множества насквозь коррумпированных сенаторов, был положен конец.
Наконец, изданный по инициативе Цезаря закон о муниципальном управлении – lex Iulia municipalis – стал основой системы городского управления Италии, а потом и всей Римской империи[180].
А вот, какие дела он хотел свершить в будущем: «День ото дня он задумывал все более великие и многочисленные планы устроения и украшения столицы, укрепления и расширения державы: прежде всего, воздвигнуть храм Марса, какого никогда не бывало, засыпав для него и сравняв с землею то озеро, где устраивал он морской бой, а на склоне Тарпейской скалы устроить величайший театр; гражданское право привести в надлежащий порядок, отобрав в нескольких книгах все самое лучшее и самое нужное из огромного множества разрозненных законов; открыть как можно более богатые библиотеки, греческие и латинские, поручив их составление и устройство Марку Варрону; осушить Помптинские болота; спустить Фуцинское озеро; проложить дорогу от Верхнего моря через Апеннинский хребет до самого Тибра; перекопать каналом Истм»[181]. Грандиозны были и военные планы Цезаря: «Он готовился к войне с парфянами, а после покорения их имел намерение, пройдя через Гирканию вдоль Каспийского моря и Кавказа, обойти Понт и вторгнуться в Скифию, затем напасть на соседние с Германией страны и на самое Германию и возвратиться в Италию через Галлию, сомкнув круг римских владений так, чтобы со всех сторон империя граничила с Океаном»[182]. Столь грандиозные планы прямо свидетельствуют о том, что Цезарь предполагал, вернее сказать, был уверен в долговременности своего правления. Один потрясающе замысленный поход после покорения Парфии через прикаспийские земли и Кавказ в скифские степи Причерноморья и далее в Германию с последующим возвращением в Италию через Галлию мог занять несколько лет, едва ли меньше, чем Александр Македонский потратил на войну в Азии, добравшись едва ли не до «сердца» Индии. Отсюда понятно, почему Цезарь не спешил обозначить своего наследника, что стало бы третьей важнейшей составляющей его уже явно монархического правления. Да, он составил завещание, да, Гай Октавий в нём был назван главным наследником, но содержание документа никому не было известно, а многократно проявленная доброжелательность к юному родственнику ещё ни о чём прямо не говорила. Об усыновлении его при жизни Цезарь никаких разговоров не вёл, потому такое развитие событий никто и не предполагал. Отказав Октавию в должности начальника конницы в предстоящем до большой войны с Парфией походе на гето-дакийское царство Буребисты, диктатор не просто поставил молодого человека «на место». Цезарь отправил его для начала как следует поучиться военному делу, не забывая при этом и о светских науках.
До отъезда Октавия из Рима к войскам в Македонию оставалось каких-то четыре дня… Но тут-то и пришли иды марта. Двадцать три удара кинжалами и мечами прервали жизнь Цезаря. А ведь не откажись этот гениальный человек от положенной ему по закону охраны – от тех же ликторов, числом в две дюжины – заговорщики едва бы отважились на нападение… Цезарь, думается, надеялся, что проявленное им великодушие к былым противникам может их, что называется, обезоружить, и не решатся они вооружённой толпой напасть на одного невооружённого человека, да ещё от охраны принципиально отказавшегося. Двое его соратников – Панса и Гирций – постоянно напоминали ему, что власть, обретённую оружием, оружием же должно и защищать. Мысль простая, здравая и, главное, совершенно верная во все времена для всех стран и народов. Цезарь, увы, полагал иначе. «Повторяя, что он предпочитает умереть, нежели внушать страх, Цезарь ожидал милосердия, которое проявлял сам»[183].
У многих нежелание Цезаря обеспечить себе естественную для человека его положения охрану при наличии столь немалого числа противников и даже ненавистников породило и порождает до сих пор мысль о готовности диктатора скорее расстаться с жизнью, нежели уподобиться настоящим тиранам и отказаться от великодушия и доверия к поверженным врагам. Взгляды современников на это подробно изложены Гаем Светонием Транквиллом: «У некоторых друзей осталось подозрение, что Цезарь сам не хотел дольше жить, а оттого и не заботился о слабеющем здоровье и пренебрегал предостережениями знамений и советами друзей. Иные думают, что он полагался на последнее постановление и клятву сената и после этого даже отказался от сопровождавшей его охраны из испанцев с мечами; другие, напротив, полагают, что он предпочитал один раз встретиться с грозящим отовсюду коварством, чем в вечной тревоге его избегать. Некоторые даже передают, что он часто говорил: жизнь его дорога не столько ему, сколько государству – сам он давно уж достиг полноты власти и славы, государство же, если что с ним случится, не будет знать покоя, а только ввергнется во много более бедственные гражданские войны»[184].
А вот мнение о трагедии мартовских ид одного из современных крупнейших биографов Цезаря: «Цезарь предпочёл скорее стать жертвой, чем отказаться от своих принципов»[185].
И всё же, думается, едва ли этот гений, обуреваемый грандиозными замыслами и уже преступивший к их осуществлению, мог пойти на сознательное самопожертвование просто ради верности своими убеждениям. Скорее он, как это всегда свойственно людям великой души, недооценивал низости и подлости своих недругов, их способности так пренебречь великодушием к ним, духом милосердия, проявленным Цезарем. Заплатили они ему за всё доброе даже не чёрной, а кровавой неблагодарностью. Сами обстоятельства убийства – десятки вооружённых против одного безоружного – могут вызвать только омерзение к заговорщикам, коих напрасно уже более двух тысячелетий иные славят как «тираноборцев», доблестно покончивших с «тираном» во славу «римской свободы».
Глава II
От мартовских ид до Филиппийских полей
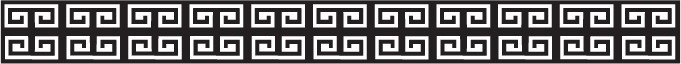
Гай Октавий тем временем продолжал пребывать в Аполлонии, готовясь к предстоящему великому походу. Да, он дважды участвовал в триумфах Цезаря, оба раза следуя прямо за колесницей триумфатора. Но ведь в африканской кампании он не смог принять участия из-за нездоровья и беспокойства матери, а в Испанию он прибыл, когда решающая битва при Мунде уже состоялась. Теперь же ему предстояло участие в великом восточном походе, каковой самим Цезарем мыслился как главное военное предприятие его жизни. Диктатор обязал внучатого племянника учиться военному делу настоящим образом, не забывая при этом и об образовании общем. Гай, следует отдать ему должное, добросовестно указания Цезаря исполнял. Особое значение, понятно, имели его военные занятия, для каковых у него появились в Аполлонии прекрасные учителя-практики: командиры эскадронов всадников, прибывших из Македонии. Они не только наставляли его в военном умении, но, понимая, кто перед ними, часто посещали его именно как родственника Цезаря[186]. Октавий, понимая, сколь важно завоевать доброе расположение военных, немало преуспел в этом деле. Вскоре его узнало и полюбило войско, «и он принимал всех милостиво»[187].
Внезапно всё изменилось. Как-то вечером посланный Атией либертин доставил ему страшную весть: Цезарь убит. Мать в письме сообщала о происшедшей в иды марта трагедии, писала, что сама не знает, как теперь повернутся дела в Риме, просила его вернуться в столицу. До недавнего времени оберегая сына как всё ещё ребёнка, ныне она обратилась к взрослому, прямо говоря, что «ему пора действовать как мужчине, своим умом решать и поступать соответственно своему положению и обстоятельствам»[188].
На словах посланник Атии сообщил Октавию, что спешил в Аполлонию, нигде не задерживаясь, дабы как можно скорее известить его о случившемся, чтобы Гай мог быстрее сообразить, что ему должно предпринять в сложившихся так обстоятельствах[189]. А таковые с немалой долей вероятности могли стать для родственников диктатора роковыми. Нетрудно было предположить, что, если теперь у власти окажутся лютые враги Цезаря, а о степени их лютости прямо говорили обстоятельства изуверского убийства, то всем, кто был близок к покойному, а родственникам в первую очередь, грозит опасность. Тем более, что Цезарь успел показать римлянам своё расположение к Октавию. Весьма немалое. Потому ему необходимо было немедленно позаботиться о том, как избежать опасности. Ведь было теперь очевидно, что у врагов Цезаря сторонников много, и они способны на самые жестокие злодеяния. То, что такие люди могут преследовать родных диктатора и даже пойти на их истребление, выглядело реальным. Как должно действовать Гаю Октавию, было очевидно: следовать указанию горячо любящей и столь же горячо любимой матери – стать настоящим мужчиной.
Сын услышал голос матери и сразу же приступил к действию. Прежде всего, он сообщил о происшедшем в столице виднейшим гражданам Аполлонии и немедленно устроил совещание с ближайшими друзьями[190]. Таковыми, как известно, у него были прибывшие вместе с ним в Аполлонию Марк Випсаний Агриппа и Квинт Сальвидиен Руф. Гаю Октавию не удавалось скрыть страх. Ведь самое печальное было в том, что оставалось для него неизвестным: было ли убийство делом всего сената или кучки лиц, ненавидящих Цезаря. Как к случившемуся отнесётся римский народ? Настигла ли участников преступления заслуженная кара, или они, оставаясь в Риме, получили одобрение и поддержку народа?[191]
В первом случае от Гая Октавия требовались одни действия, во втором – совершенно противоположные. Должно было либо выступить мстителем за подло и преступно убитого диктатора, либо спасать свою жизнь, поскольку ему как родственнику и бывшему под покровительством покойного торжество его убийц не сулило ничего хорошего. Соответственно и советы он получил разные.
Его молодые друзья, молодость всегда решительна и отважна, советовали Гаю догнать находящиеся в Македонии легионы, пока они ещё не ушли далеко на восток, и, возглавив их, двинуться на Рим для праведного отмщения убийцам. Предполагалось, что солдаты, горячо любившие Цезаря, окажутся преданными его памяти и воодушевятся идеей отомстить за него, а предводителем своим возжелают видеть его ближайшего родственника Гая Октавия, пусть он и весьма дальний родственник, но ведь покойным диктатором обласканный и приближённый! Командующий легионами Марк Апилий, видя подобное настроение войск, должен был бы безропотно уступить своё место во главе армии мстителю за Цезаря, имевшему на это родственные права[192].
Советов, призывающих Октавия прибегнуть к поддержке войск, было предостаточно. Согласно сообщению Аппиана, римские друзья предлагали ему укрыться в войске, стоящем в Македонии, что обеспечивало бы его безопасность, а, когда выяснится, что убийство Цезаря – не дело рук всего сената, то смело идти на Рим и отомстить врагам. Ряд военачальников обещал Гаю безопасность и поддержку, если он к ним прибудет[193]. Однако, после долгих размышлений и колебаний он эти решительные планы и предложения отверг как преждевременные и потому опрометчивые[194]. Биограф Августа Николай Дамасский так пояснил его действия: «Но ему, человеку ещё очень молодому, это показалось делом трудным и превышающим его юные силы и его опытность; кроме того, ему было совершенно неизвестно отношение к нему большинства населения, а врагов, восставших против него, было много»[195]. Потому и решил он, ничего пока не предпринимая, отправиться в Рим, изучить положение дел на месте и действовать далее, уже посоветовавшись с находящимися в столице друзьями и сторонниками. Немаловажную роль сыграло полученное им из Рима письмо матери и отчима, написавших ему, «чтобы он не зазнавался и не рисковал, памятуя, что Цезарь, победивший всех врагов, больше всего пострадал от рук лучших друзей»[196]. Их совет Октавию: избрать жизнь частного человека как менее опасную при данных обстоятельствах и поспешить к ним в Рим со всей осторожностью[197].
Так Октавий и поступил, понимая, что мать и отчим дурного совета ему не дадут, а кроме того, он действительно не знал, что же на самом деле происходит в столице. Попрощавшись с военачальниками, столь к нему расположенными, что он не мог их не оценить и рассчитывал на поддержку этих людей в будущем, Октавий переправился через Ионическое море в Италию, но не в важнейший город и порт юго-запада полуострова Брундизий, а в находящийся неподалёку от него и в стороне от большой дороги скромный малозаметный городок Лупий. Смущало Гая то, что настроения войск, стоящих в Брундизии, были ему неизвестны, а потому следовало избегать возможных рисков.
Ничего не скажешь, разумная предосторожность. Значит, уже в таком юном возрасте, в 18 лет, он был чужд опрометчивости и торопливости, большинству его сверстников в такие года естественным образом свойственных. Не случайно он на протяжении своей долгой жизни часто любил повторять: «Спеши, не торопясь», «Осторожный полководец лучше безрассудного» и «Лучше сделать поудачней, чем затеять побыстрей»[198].