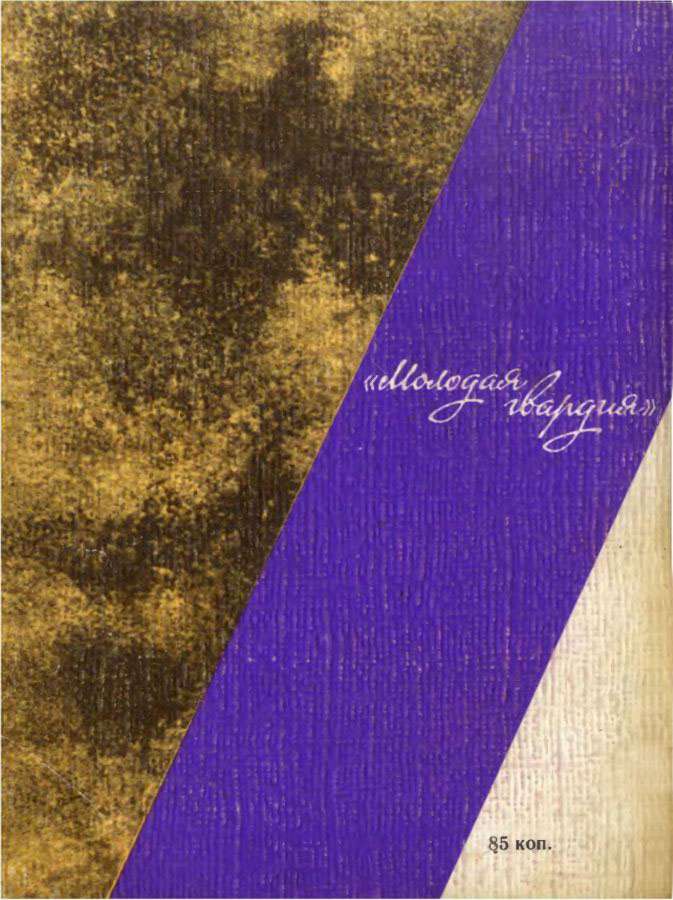— Та-ак, — сказала она. — Вот теперь ясно. Значит, это ты из-за меня на Володю кинулся. Отнял у меня лабораторию, решил — рассчитался. А потом узнал: я и без лаборатории жива. Лекции читаю, книги пишу. Не выдержал. Решил вот таким образом ударить. Чтобы побольнее было. Эх, ты… — У нее возникло острое желание размахнуться и влепить по его обрюзгшей щеке, но Вера Степановна тут же поняла: это унизит ее. «Он же погибший человек, — подумала она. — Он ведь давно погибший, очень давно. Он же смердит. Какое счастье, что я невольно перешла ему когда-то дорогу! Сколько бы всего Лютиков загубил».
— Ну, вот и повидались, — тихо сказала Вера Степановна, собрала фотографии, встала.
— Что, не понравился? — осклабился Лютиков.
— Нет, отчего же? — сказала она. — Даже интересно было. Жаль только, что я тебя раньше таким не видела.
— А что? Убила бы?
— Может, и убила бы, — жестко сказала она, взяла дубленку с сундука и пошла к выходу.
— Эй, погоди! — раздалось из комнаты. Вера Степановна обернулась — он сидел за столом, ухмыляясь. — А ты баба-то была ничего. Сла-а-адкая! — И захохотал, закашлялся.
Она не ответила, захлопнула за собой дверь. Она торопливо шла к станции, и к ней возвращалась уверенность; нет, она не жалела, что встретилась с Лютиковым, давно знала, что в таких, как он, постоянно втайне живет тиранство — самый страшный вид человеческого падения. И осквернение чужой памяти для них — будни, а злопамятство — привычное состояние, теперь лишний раз она убедилась в этом.
Она ехала в электричке, сидела у окна. День словно пылал белизной, дробились стеклянные искры на снежном насте, местами краснели стволы сосен, с трудом сдерживавшие на своих ветвях пышные шапки снега, и от всего этого делалось покойно и празднично. Чем дольше ехала Вера Степановна, тем сильнее в ней укреплялось ощущение: все скверное, случившееся в жизни, теперь отступило и отдаляется безвозвратно. И она думала: как жаль, что такое можно испытывать только в старости. Но грусти не было. Она ведь счастливый человек: у нее есть Петр, есть Алеша, вместе они могут многое выдюжить, да ведь так и было.
Вот уже и Москва, знакомый перрон вокзала, пора выходить из вагона.